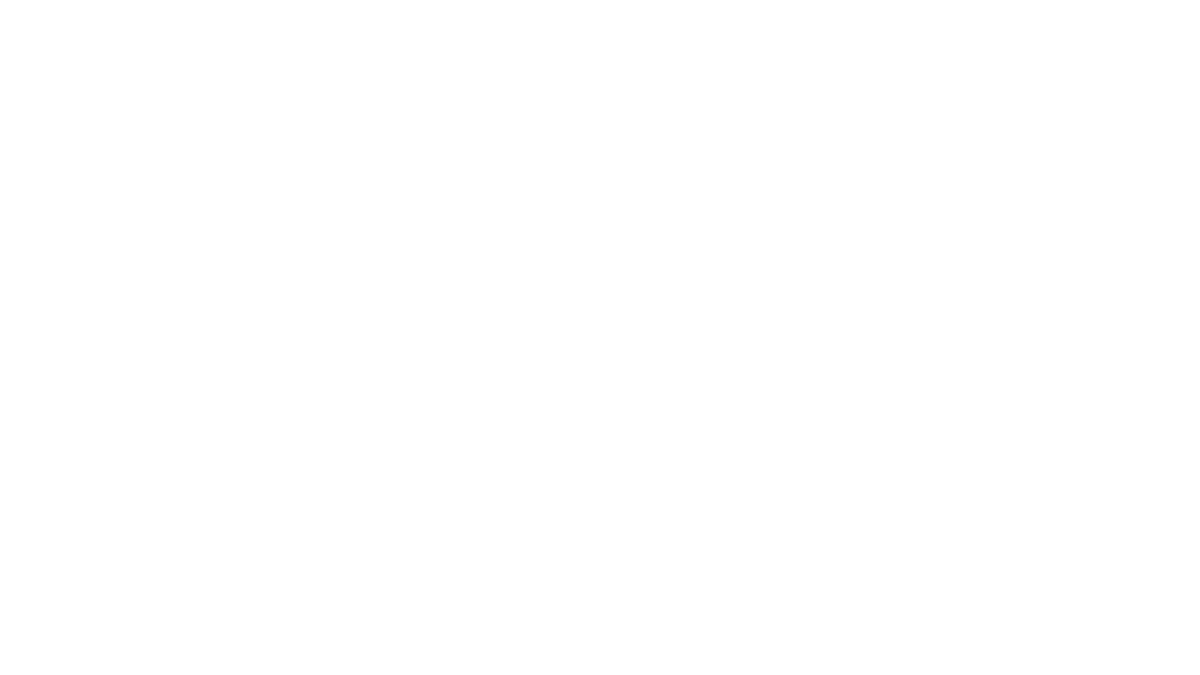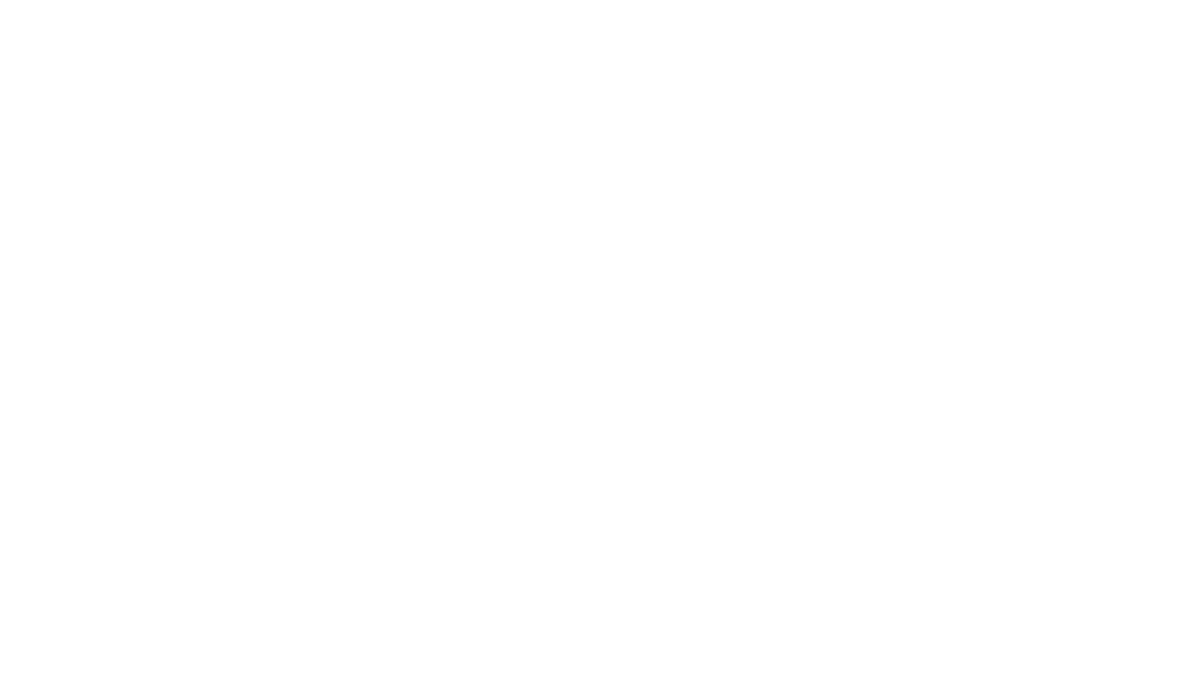Пиарщики сделали медиа, чтобы питчить самим себе / / Как пиарить в России / / Журнал для пиарщиков / / Пиарщики сделали медиа, чтобы питчить самим себе / / Как пиарить в России / / Журнал для пиарщиков / /
16 окт 2025
Кукуха
Ксения Новикова
Юлия Деева: про пиар золота, стереотипы и уникальную бактерию
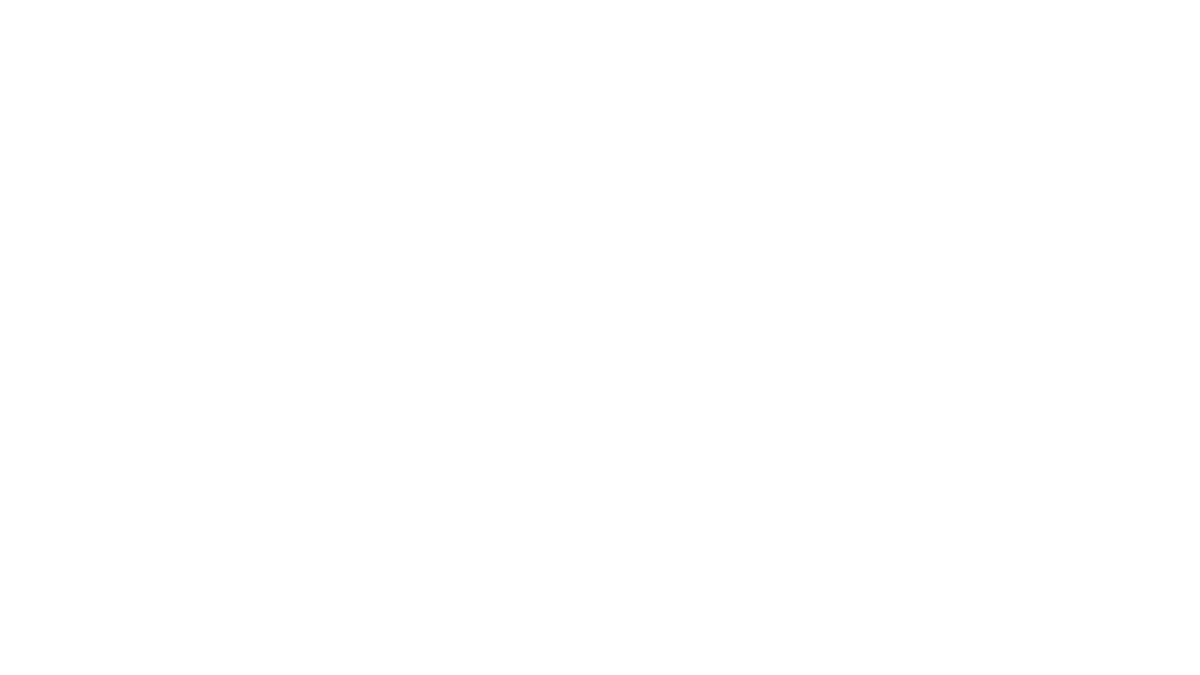
Слово — серебро, а целое интервью — золото! Поговорили с Юлией Деевой, заместителем директора департамента по связям с общественностью в крупнейшей золотодобывающей компании России «Полюс».
Обсудили, почему в компании нет маркетинга, как люди видят золотодобычу и сколько зданий МГУ помещается в самом большом карьере «Полюса».
Обсудили, почему в компании нет маркетинга, как люди видят золотодобычу и сколько зданий МГУ помещается в самом большом карьере «Полюса».
О стереотипах и особенностях пиара в золотодобыче
- Юлия, расскажите, пожалуйста, какой он, пиар в золотодобывающей отрасли?Здесь не столько нужно говорить о золотодобыче, сколько в принципе о специфике работы в промышленности или крупной компании.
До ухода в «Полюс» я 11 лет работала в девелопменте и всегда понимала, что если буду куда-то переходить, то именно в промышленную компанию. Тут ты видишь реальный продукт, общаешься с реальными людьми — и это очень классно для пиара.
О золотодобыче много стереотипов. И мы как раз строим проекты на том, что развеиваем эти мифы. - С какими стереотипами о золотодобыче сталкиваетесь?На многих своих выступлениях я задаю один из любимых вопросов: «Что у вас возникает перед глазами при слове „золотодобыча“?»
Люди ещё не успевают ответить, как руками начинают показывать мне лоток. Потому что все читали книги Джека Лондона о временах Золотой лихорадки и у большинства в голове картинка из фильма, как мужики в реке что‑то моют. Ищут самородки, моют золотоносный песок. Процентов 80 не знает, что золото добывают из руды. Сейчас кто-то из молодёжи стал иногда отвечать: «Карьер, большая техника».
Поэтому следующей картинкой в своей презентации я всегда показываю большегруз, в кузове которого лежит руда.
Ещё один из стереотипов — что вахта — это очень тяжело и только для суровых мужчин.
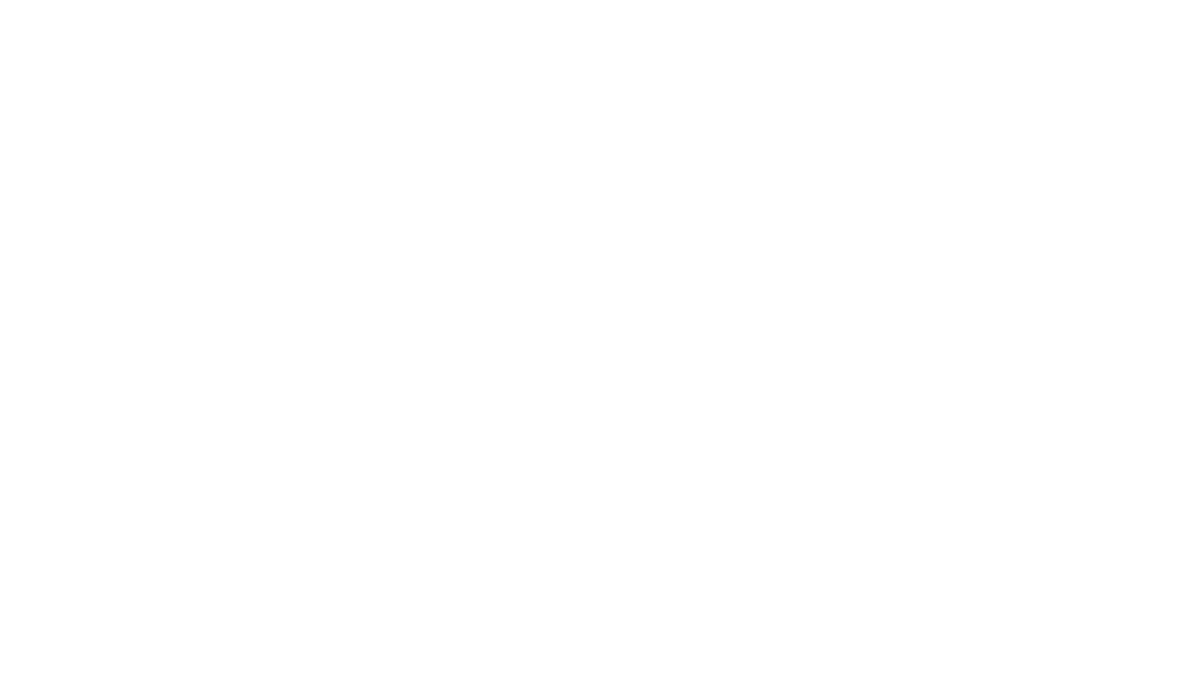
- И как вы работаете с такими стереотипами?Одним из наших первых креативных кейсов был совместный спецпроект с информационным агентством ТАСС, который называется «Мифы и правда о золоте».
Он разделён на 20 вопросов и ответов в аудио, видео и текстовом форматах, чтобы интереснее было изучать материалы. Для проекта мы специально выбрали достаточно простые вопросы, на которые большинство людей отвечает неправильно. Вот я сейчас даже вас спрошу: «Где самое большое неразработанное месторождение золота в мире?» - В России! Я смотрела ваш проект.Ну вот, а обычно отвечают: Америка, Австралия или Африка. У нас есть стереотип, что всё хорошее почему‑то не в России, всё большое тоже.
Опять же, можно ли сразу приступать к добыче золота, если нашёл месторождение? Никто не понимает, что такое геологоразведка и что большинство месторождений были открыты ещё во времена Советского Союза. Но тогда не было технологий, чтобы точно понять, например, на какой глубине залегает золото, как именно расположено рудное тело.
Следующий проект «Какой ты золотодобытчик?» мы сделали квестовым. Например, есть факт: золото добывают из руды в соотношении примерно один грамм на тонну. Но что такое грамм на тонну? Это очень абстрактно и непонятно. Поэтому нужно приводить яркие примеры.
Моя коллега всегда говорит: «Вы слона видели? А муху? Вот это примерно грамм на тонну». - Очень наглядно:)Я летом возила писателей в Красноярск и Магадан. И мы показывали им в Красноярске наш самый большой и глубокий карьер в России — Восточный. Площадь карьера по поверхности — 122 Красные площади, а глубина — около 900 метров. Это три главных здания МГУ, поставленные друг на друга!
Но пока ты это вживую не видишь, всё равно сложно представить. Даже когда стоишь на смотровой площадке, ты… видишь что‑то гигантское: у тебя внизу маленькие машинки ездят, как в детской игре. А потом тебя спускают вниз на вахтовке, и ты встаёшь рядом с этим гигантом, в который помещается 240 тонн воды. И здесь ты осознаёшь масштаб. - Какие ограничения есть в пиаре компании?
Как у любой крупной промышленной компании. Мы никогда не бросаемся в хайповые проекты. Помните, когда в «Аэрофлоте» обидели кота*? Многие бренды использовали эту новость как повод сделать сиюминутный пиар‑проект.
Крупная промышленная компания такого себе позволить не может. Мы всегда идём от вопросов: «Куда двигается компания? Зачем нам это нужно?» и хорошо понимаем стратегию, задачи бизнеса — все наши проекты строим на этом.
Мы не подхватываем хайповые темы. Все крупные промышленные компании оказывают влияние на развитие регионов, в которых работают, соответственно, они очень внимательно подходят к выбору тем и проектов. «Полюс» не исключение.
* Речь идёт о коте Викторе, которого в 2019 году авиакомпания «Аэрофлот» не пустила в салон самолёта из-за превышения веса. Хозяин отказался сдавать кота в багаж и на следующий день прошёл регистрацию с «подставным котом», а потом поменял его на Виктора. Когда обман раскрылся, «Аэрофлот» списал мили хозяина за нарушение правил, общественность подхватила тему и обрушила шквал критики на авиакомпанию. - А есть какие-то характерные особенности для золотодобычи?Да, это связано именно с нашей компанией. Мы ничего не продаём. Нам повезло, у нас нет маркетинга и рекламы. Поэтому всё, что мы делаем, мы делаем самостоятельно, без оглядки на коллег из таких подразделений.
Но при этом работаем в тесной связке с GR и эйчар‑подразделениями. Потому что часто они заказчики проектов, которые мы реализуем в регионах присутствия. - Получается, у вас вообще нет маркетингового отдела?Верно. Смотрите, золото, когда выходит с ГОКа (Прим. ред.: горно‑обогатительного комбината.), после плавилки называется слиток доре. Это золото с небольшой примесью серебра. Так, на Олимпиадинском ГОКе содержание чистого золота более 90%, на других оно может быть от 80%.
Дальше слитки уходят на аффинажный завод — на предприятие «Красцветмет» в Красноярске. И уже оттуда выходит красивый, полностью отшлифованный слиток с клеймом 999. Поэтому золото с одного актива не может быть «золотее» золота с другого актива. Оно одинаковое. Оно стандартизовано. Вот и всё. Из любого золота, добытого на любом нашем активе, получаются слитки 999 пробы. - Раз нет маркетинга, то ценность пиара в такой компании понимают лучше?Очень по-разному бывает, потому что в девелопменте мы делили с маркетингом «поляны». Я занималась больше имиджем, и мне не задавали вопрос, как твой пиар влияет на наши продажи.
Это до первого кризиса непонятно, чем пиар занимается. А вот лифт сорвался, но его успели поймать — и сразу всем понятно, зачем тебе пиар и как он работает.
В «Полюсе» понимают ценность пиара. Как мы работаем на имидж компании, на продвижение эйчар‑бренда, который очень важен, особенно в условиях кадрового голода.
Также понимают, что такое информационное поле. Стандартная практика, что коллеги перед выступлениями на конференциях всегда присылают свои материалы на согласование. Мы смотрим, что можно говорить в данный момент на внешнюю аудиторию, что нельзя, потому что, например, это влияет на акции. Речь идёт не о замалчивании фактов, а о раскрытии информации вовремя. - Какие кризисы бывают в золотодобыче и как вы их отрабатываете?Кризисы бывают, как и у всех, связанные с нашей экономической ситуацией и политическими историями. Я честно могу сказать, что за пять лет моей работы с 2021 года у нас не возникали суперкризисы, которые бы мы отрабатывали.
В девелопменте у меня кризисов было больше. То у нас обманутые дольщики, то рост цен на строительные материалы, то изменение ставок по ипотеке, то ещё что‑нибудь. Но пиарщики всегда готовы к кризисам, тренируемся, как это предотвращать и отрабатывать.
В «Полюсе» есть отдельный чат для случаев, когда, например, машина заглохла на трассе зимой или возникли природные катаклизмы. Но жёстких кризисов у нас не было. - Вы работали в девелопменте, сейчас в золотодобыче — насколько сильно отличается скорость реагирования и согласования в этих сферах?В девелопменте было много сиюминутных запросов от журналистов, которые ты отрабатывал быстро. Здесь в меньшей степени есть запросы, которые нужно отработать немедленно.
В девелопменте этого было так: повысили ключевую ставку или понизили — как среагирует рынок? Как отреагируют цены? Что вы думаете о выходе на рынок нового игрока? Но, опять же, там были продажи. А здесь мы занимаемся имиджем, поэтому оперативных запросов нет. - А согласовывать комментарии, материалы в промышленной компании сложно?Смотря какие. Мы готовим большие программные интервью. Даже если у нас есть какой‑то запрос, скорее это будет статья для журнала со сроком в три‑пять дней. То есть нет такого, что «через 15 минут нам нужен ответ». Это другая история, чем в девелопменте. Здесь меньше цейтнота.
- Вернёмся к предрассудкам. Вы упоминали про стереотипы относительно вахтовой работы…Работа на вахте, безусловно, сложная. Не могу сказать, что для неё нужен определённый психотип, потому что приезжают очень разные люди. Но уровня подготовки и определённых черт характера вахта требует.
Сейчас мы активно развиваем подкаст «Женское это дело». Из-за недостатка кадров многие компании разворачиваются в сторону женщин. Кажется, а где же женщины в золотой промышленности? Да практически везде!
Мы рассказываем о девушках, которые работают горными диспетчерами, электрослесарями, энергетиками, сотрудниками лабораторий. Это такие профессии, которые не сразу приходят в голову.
- После подкаста ещё выходят статьи в региональных и федеральных СМИ.
Мы показываем людей, которые трудятся в золотодобыче. Многие из них вообще не представляют, как можно перестать ездить на вахту. У них сложился особенный ритм жизни. Они говорят: «Зачем мне работать пять на два, если я два месяца на вахте, а потом месяц дома? Могу посвятить время семье, путешествиям, своим делам».
И когда мы спрашиваем про три плюса и три минуса работы в компании, три плюса называют сходу, а насчёт минусов задумываются. Послушайте любой из подкастов, я не лукавлю. - Не слишком ли романтизируется работа в золотодобыче? Мне попадались ваши истории, как, например, девушка поехала на вахту и нашла там мужа. Нет ли риска, что не совпадут у людей ожидания и реальность?Мы специально ничего не придумываем. Девушки сами рассказывают то, чем готовы поделиться. Поэтому если действительно в 21 год она приехала на вахту и нашла себе мужа и не постеснялась об этом рассказать, то это классная история.
Или вот случай, когда уже состоявшаяся женщина в 48 лет поменяла профессию, пришла в «Полюс» и через четыре года возглавила лабораторию. Или когда в 45 сотрудница, успешный финансист, сменила карьерный трек, отучилась на айти‑специалиста и возглавила одно из наших айти‑подразделений. Мне кажется, такие примеры, абсолютно живые, рассказанные самими героями, очень вдохновляют.
На самом деле мы никогда не брифуем коллег, что они должны сказать, только ориентируем, какие вопросы будут. Они должны говорить искренне, от сердца. А если это написанные или сказанные по заказу тексты, такое сразу слышно.
На Первом канале скоро выходит четырёхсерийный фильм «Золотые люди», который сняла «РД Студия» с Валдисом Пельшем в качестве ведущего. Он сам съездил во все наши четыре региона присутствия, его команда приезжала на наши активы и общалась с сотрудниками. И вот там люди от души рассказывают о работе в «Полюсе». - Зачем вы возите публичных личностей на карьеры, в достаточно экстремальные условия?Чтобы они могли прочувствовать эту атмосферу, вживую пообщаться с нашими людьми и показать реальную работу в «Полюсе». Та же команда Валдиса жила бок о бок с вахтовиками в общежитии, вместе с ними ходила в столовую, общалась с сотрудниками и видела, как они коммуницируют друг с другом.
Летом мы возили писателей из «Редакции Елены Шубиной» и «Альпины» в Красноярский край и Магаданскую область, они тоже провели на наших промышленных площадках с вахтовиками по два-три дня и увидели всё по‑настоящему. Поэтому, с моей точки зрения, романтизации профессий в золотодобыче нет. - А что насчёт романтизации профессии пиарщика?С этим я сталкивалась часто. У меня был стажёр на предыдущем месте работы, который… Я думала сначала, что он шутит. Спрашиваю: «Почему вы решили пойти в пиар?» Он говорит: «Ну так классно, всё время тусовки, ты куда‑то ходишь, вечерние мероприятия, бокал вина». Мне молодой человек это говорил на полном серьёзе. Я отвечаю: «Отлично. А сейчас вот в ту каморку идём, разбираем сувенирку и наши раздаточные материалы».
Нам не мешало бы показать, что пиарщик — это и креатив, и рутина, всё вместе. Очень у многих поверхностное впечатление, видят только публичную сторону профессии. А мы работаем практически 24/7: просыпаемся с телефоном в руке, засыпаем с телефоном в руке, все отпуска с телефоном в руке.
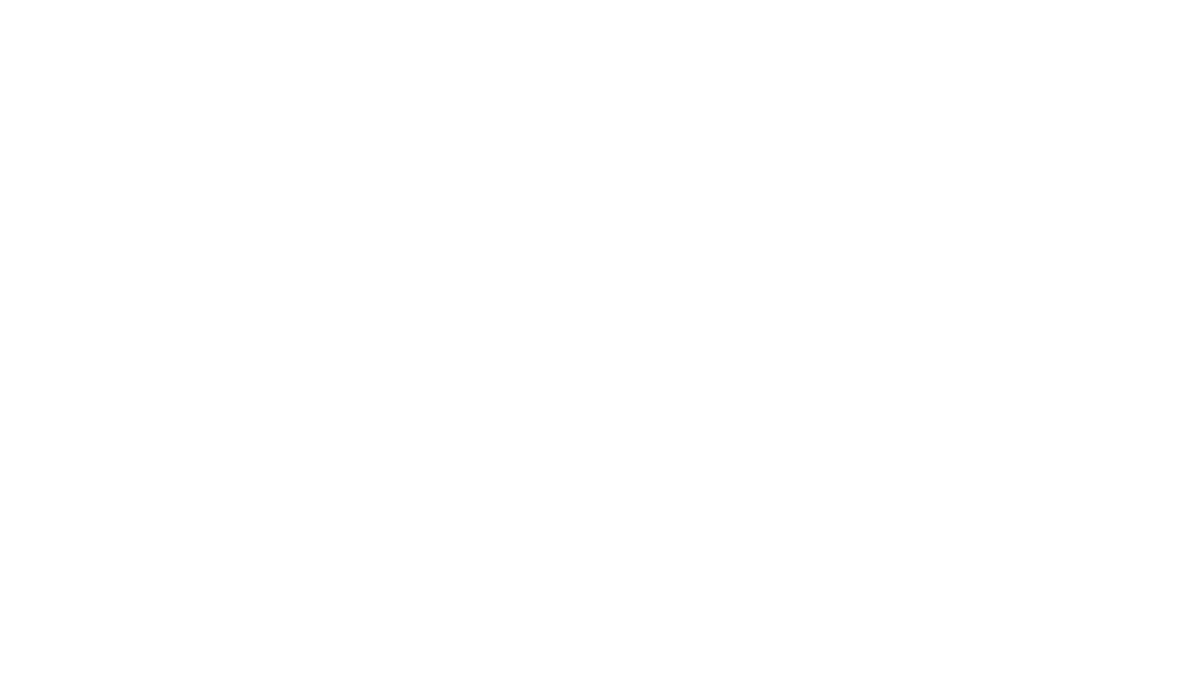
- Да, есть такой стереотип. Что пиар — это просто: как Джеймс Бонд, ходишь с коктейлем по мероприятиям и общаешься с журналистами.Только твою работу в офисе почему‑то никто не отменил в это время, да? Сейчас благодаря новым технологиям всё стало проще — и я говорю не про искусственный интеллект, а про банальные вещи.
Я начинала с кнопочным телефоном, и мы вживую читали газеты. Не работали ещё системы мониторинга, Медиалогия. Я ещё Factiva помню — не СКАН‑Интерфакс. Одной кнопкой всё не делалось. Мы ксерили газеты, готовили мониторинг прессы вручную. Что‑то отправляли по факсу. Это реально было в 2007‑2008 годах. А сейчас у нас нет таких проблем. Главное, чтобы был интернет, сейчас нам мессенджеры упрощают жизнь. Но вот только пока нет технологии количество часов в сутках увеличить. - Мне рассказывали, что в то время даже эффективность измеряли путём вырезания заметок, колонок из газет. Такое тоже было?Да. На самом деле пресс‑клиппинг никто не отменял, потому что сейчас тоже многие крупные компании, особенно полугосударственные, требуют отчёт для бухгалтерии в виде пресс‑клиппинга.
Понятно, что это не вырезается. Но если вдруг вышел журнал, который не дублируется в интернете? 1% таких остался, поэтому и такое есть. Так что наша служба и опасна, и трудна, и, на первый взгляд, как будто не видна. Это кажется очень легко, а за каждым проектом стоит титанический труд…
О пиар‑проектах «Полюса»
- Как понимаю, у вас проблем с привлечением сотрудников к популяризации «Полюса» нет?Мне кажется, это очень зависит от человека и того, как ты приходишь к людям. В силу специфики работы мне нужно общаться и с топами, и с линейными руководителями. Когда я пришла в 2021 году в «Полюс», одной из моих задач было увеличить процент сотрудников, которые участвуют в конференциях и выступают экспертами в СМИ.
Помню, как пошла знакомиться с вице-президентами. Ты сразу должен выяснить, какой у тебя спикер. Человек может быть прекрасным профессионалом и при этом интровертом: не любить выступать на публику, но давать хорошие письменные комментарии.
Или, наоборот, он любит выступать, ему этого не хватает, он готов преподавать, и ты можешь вывести его на любую аудиторию, хоть на студенческую, хоть на научную, хоть на журналистскую. Твоя задача за несколько минут знакомства считать человека и выяснить, какой формат ему ближе.
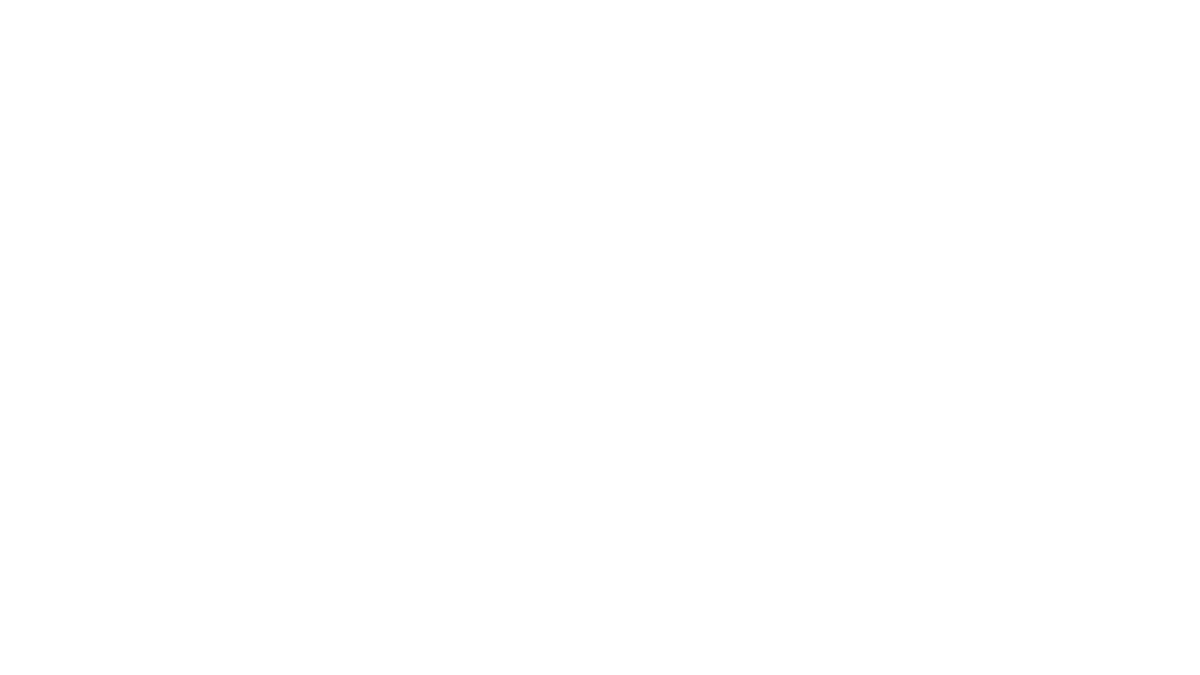
- Мы как-то выводили спикера от компании на интервью во время ПМЭФа и ВЭФа. Делали это с РБК. У меня было жёсткое условие, кто берёт интервью. Я хорошо отношусь ко всем ведущим РБК, но у меня как у пиарщика есть свои предпочтения. Я очень хотела, чтобы этого спикера интервьюировал Кирилл Токарев.
А у РБК принцип: на ВЭФ или ПМЭФ у мужчин берут интервью девушки. Я говорю: «Нет-нет-нет, пожалуйста, с губернаторами пусть общаются ваши ведущие, а я хочу, чтобы с нашим героем общался именно Кирилл».
Потому что я понимала: они будут на одной волне. Одно дело — предварительно согласованные вопросы, другое — как пойдёт беседа потом. Человек должен уметь эту беседу поддержать. И в итоге у нас спикер сначала дал интервью Кириллу на ПМЭФ, а через полгода ещё и на ВЭФ.
Ты как пиарщик просто должен понимать, кто готов выступать, кто нет. Наши девушки часто волнуются, когда идут записывать подкасты, поэтому мы и не пишем видеоверсию. В аудиоверсии, если беседа пошла не так, ты можешь отмонтировать — например, какую-то фразу поднять в ответ на вопрос. А видео всегда сложнее и волнения больше: как человек смотрит в камеру, как он держится, как себя чувствует. Это всё равно определённый навык. В случае с аудиоподкастами девочки приезжают в студию «Комсомольской правды» в одном из крупных городов и общаются с профессиональным ведущим. - Как у вас строится взаимодействие Москвы с регионами? В одном интервью вы описывали, что у вас пресс‑служба из шести человек в Москве и отдельные пресс‑службы в регионах. Как вы с ними работаете?У них есть план работы, который утверждается руководством. Все мероприятия проходят фактически в регионах.
У региональных пиар‑отделов есть текущие задачи и дальше совместные мероприятия, на которые из Москвы прилетает наш руководитель пиар‑департамента. У нас нет жёстких ежедневных планёрок, но мы постоянно с ними на связи. По почте, в мессенджерах. - А какие пиар‑мероприятия, проекты остаются на Москву?Бывает точечные истории. Важно понимать, что крупный бизнес иногда получает какие‑то поручения. Из того, что я помню, это выставка «Живое вещество» совместно с Новой Третьяковкой и Галереей «Триумф». Нас с «Алросой» попросили в этом поучаствовать.
При этом надо было придумать, как встроиться в проект, сделать что-то интересное, а не просто профинансировать. Знаете, «Живое вещество» — это современное искусство, инсталляции. И мы показали фотографии наших бактерий, которые помогают добывать золото, и фильм про них, буквально на две минуты. - Как любопытно…Да, бактерии, которые добывают золото. У нас есть упорные руды на Олимпиадинском месторождении (Прим. ред.: упорная золотая руда — руда, которая не поддаётся обработке стандартными методами.). Для расщепления этих руд в «Полюсе» разработана и в течение многих лет применяется технология бактериального выщелачивания БИОНОРД®.
В природе процесс занимает миллионы лет. А у нас бактерии делают это за сотню часов. Мы делали фотографии на электронный микроскоп и показывали на выставке.
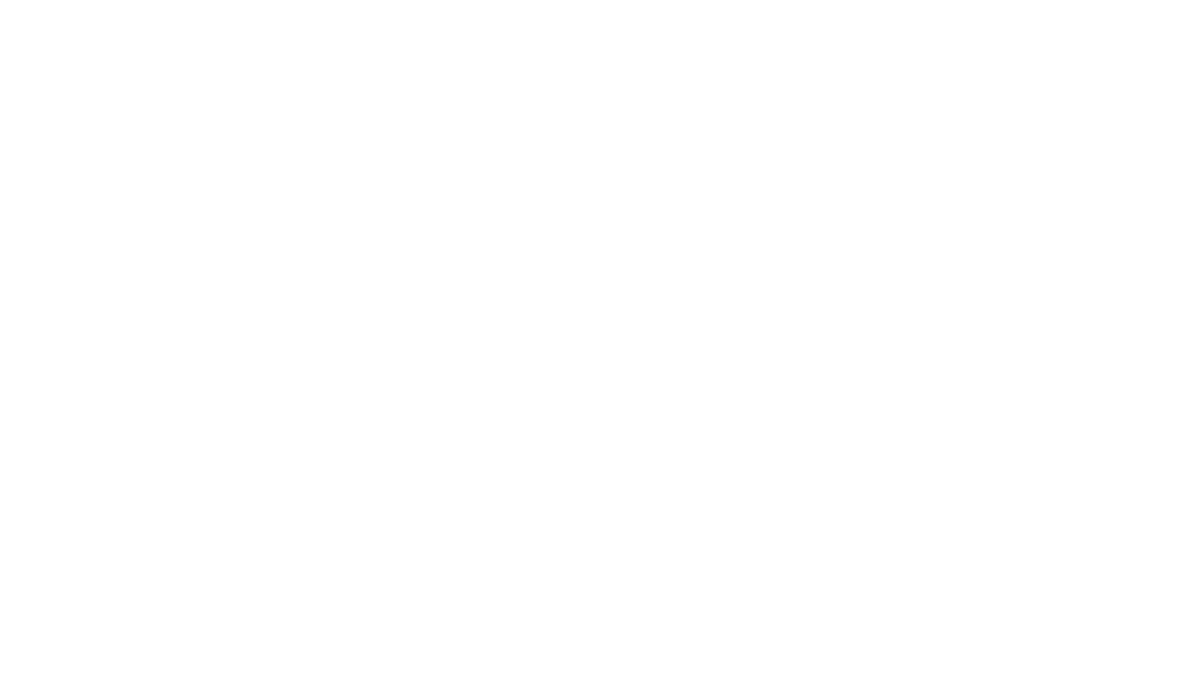
Фото бактерии в микроскопе
- Расскажите об экопроектах. Заметила, что у вас есть награды в этой сфере. Как вы думаете, для каждой компании это необходимость в наше время или модный тренд?Как любая крупная промышленная компания, мы обязательно находимся в повестке экологии и ответственного природопользования. У нас есть дирекция по устойчивому развитию, есть подразделение экологов. Поэтому я покажу, как мы, пиарщики, рассказываем об этом.
Программа «Заповедная территория „Полюса“» предполагает поддержку заповедников в регионах присутствия. Например, в Магаданской области есть остров Талан. Это птичий заповедник, где обитает 150 видов птиц. И мы как пиарщики делали фильм «Птицы острова Талан», который взял гран‑при на конкурсе АКМР «Лучшее корпоративное видео». Это имиджевая история.
Ещё в этом году в премии Loud впервые появилась номинация, которая называется Let’s Merch. Спасибо огромное организаторам премии и лично Ксении Тиханкиной, потому что такой номинации не хватает на многих пиар‑премиях. Мы участвовали с проектом по сувенирной продукции, посвящённой нашей работе с заповедниками.
Есть компании, которые сами разрабатывают сувенирку. Сувенирка в этом случае — не просто белые футболки с логотипом, а креативный проект с детальной проработкой.
Так, мы сделали серию сумок и платков — эмоциональный мерч «Полюса». Сувенирка, которая вызывает позитивные эмоции. Это сумки-шопперы с уникальными рисунками, которые разработала российский дизайнер Ольга Никич. Они посвящены биоразнообразию регионов — например, птицам острова Талан, нацпарку «Красноярские столбы». В этом году Красноярскому нацпарку 100 лет, и мы сделали ещё два дизайна: с его флорой и фауной. Причём дизайны разработаны по реальным фотографиям из этого парка, в том числе с фотоловушек.
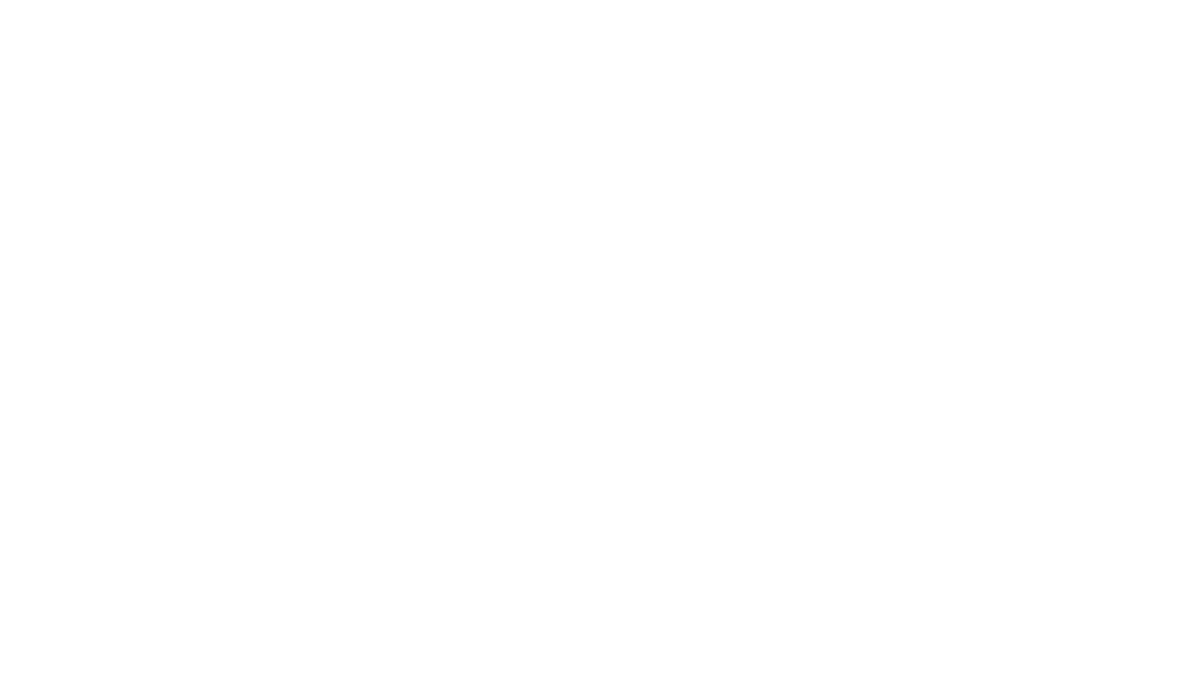
- Как вы выбираете, с какими дизайнерами или компаниями коллабиться? На что обращаете внимание?К нам почти ежедневно приходят письма от разных агентств с потрясающими запросами: «Здравствуйте, меня зовут так‑то, я старший менеджер. Мы очень хотим с вами работать. Какие задачи вы можете нам делегировать? Сообщите время, когда мы можем созвониться по зуму». И бывает иногда ещё презентацию прикладывают, совершенно нерелевантную, из серии «А мы работали с футбольными клубами». Ребят, вы хотя бы сайт откройте, просто посмотрите, прежде чем рассылать «холодные» письма.
Хочется молодняк научить работать. Посмотрите, что компания делает, откройте, погуглите. Они видят крупный бизнес и сразу мыслят так: «Классно, сейчас получим от них контракт». Нет, такими методами не получите никогда. Скорее мы сами что-то придумаем и найдём, с кем это реализовать.
Это тонкая настройка, я не могу сказать, что мы привлекаем знакомых, но часто находим людей, про которых, например, сами слышали и поняли, что хотели бы с ними что‑то сделать.
Так, мы работаем с Государственным геологическим музеем им. В. И. Вернадского РАН. Там есть учёный секретарь, кандидат геолого‑минералогических наук, доцент Исхак Фархутдинов. Мы с ним познакомились, когда он был в жюри кинофестиваля MinexMovie.
Сначала просто пообщались, подумали, как можем быть друг другу полезны, поддерживали Музей геологии. А потом Исхак сделал фильм «Дороже золота», где рассказал о нас. Сейчас готовит детскую книгу о золоте с нами и издательством «Альпина». В общем, это дорога с двусторонним движением.
Пиарщики в целом обычно люди с очень широким кругом общения.
Я рада, что сейчас, в отличие от предыдущего места работы, не занимаюсь плотно внутрикомом и ивентами. Потому что это была уже профдеформация, когда я приходила на любое мероприятие и смотрела: «Так, кто кейтеринг делал, кто сцену декорировал, каких артистов приглашали?» У тебя всё время это в голове, ты не можешь расслабиться и постоянно следишь, кто и как ивент делал, какая сувенирка, что подарили в конце.
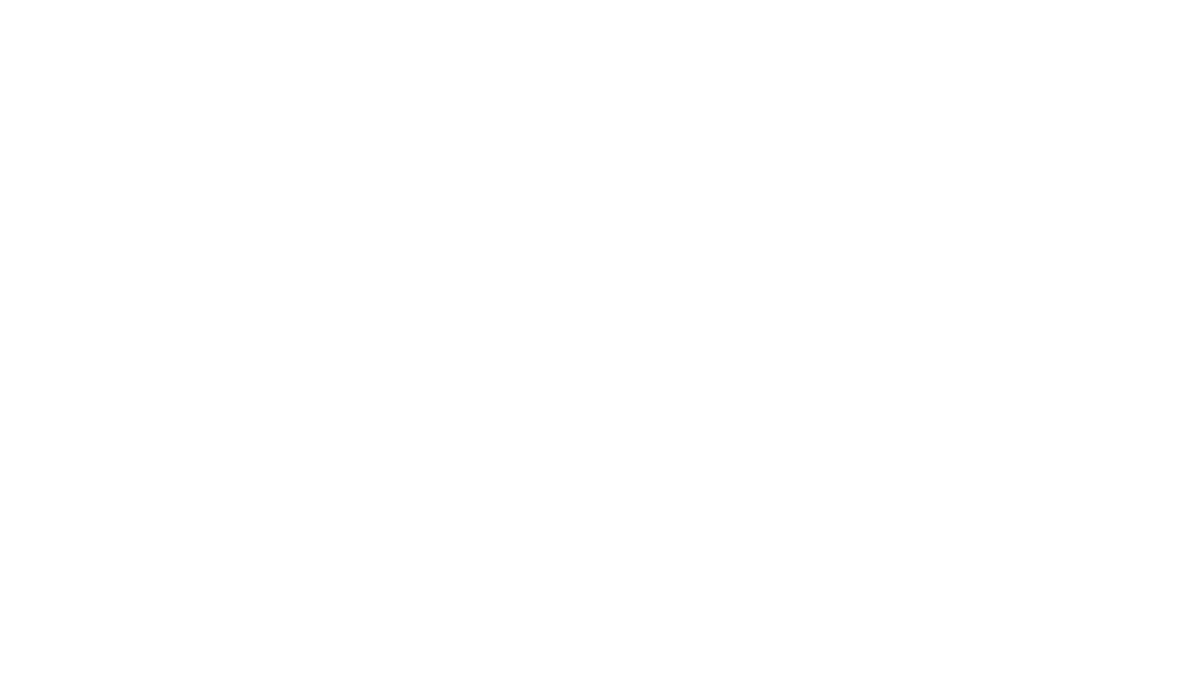
- Правда, иногда эта профдеформация помогает. Я пришла со своей семьёй на концерт в Дом музыки на квартет «Мелодион». Концерт назывался «Бах при свечах». Вижу профессиональных людей, их всего четверо — значит, будет удобно вывезти в регионы. Я просто нашла контакты их основателя, Наташи Тупиковой‑Мороз, написала ей, и вот мы устроили их концерт в Магадане как подарок городу.
Как это рождается? Я могла бы прислать запрос в какое‑то агентство, получила бы список, из которого надо выбрать. А здесь я сама услышала, мне это понравилось, обсудили в офисе и решили поработать с ними. - На платформе МТС «Строки», а сейчас уже и на Яндекс Музыке вы выпустили аудиокнигу с увлекательными историями про золото. Расскажите об этом проекте, как он появился?Аудиокнига родилась очень интересно. У нас есть корпоративная газета — олдскульная, на бумаге. Когда люди работают на ГОКах, им нужна «живая» газета. Они могут показать её семье, друзьям, особенно если их там похвалили или они получили спортивную награду. Всегда приятно сказать: «Смотри, про меня в газете напечатали». Занимается ей лично директор нашего департамента Виктория Васильева.
На последней странице газеты публикуются разные истории, связанные с золотом, кладами и дворцами. Когда их накопилось достаточно, мои коллеги в «Полюсе» решили издать книгу, которую назвали «Золото. Люди, истории, приключения». Получился красивый фолиант с потрясающими иллюстрациями.
Потом сделали второе издание, расширенное. Я пришла в «Полюс», прочитала эту книгу, погружаясь в тему золотодобычи. Запомнила, что она мне понравилась.
Здесь нужно сделать отступление и сказать, что у нас есть конкурс региональных театров «Полюс. Золотой Сезон» и на его финал мы привозим известных актёров: Сергея Чонишвили, Евгения Миронова, Дарью Мороз, Александру Урсуляк, Петра Дрангу. И я подумала, почему бы этими голосами не записать из книги аудиоверсию? Так и сделали.
Нашли редактора, адаптировали текст и договорились с известными людьми. Три главы прочитал Сергей Чонишвили, а дальше по две главы Евгений Миронов, Дарья Мороз, Владимир Антоник, Никита Полицеймако, Владимир Ерёмин, Виталий Коваленко, Ирина Апексимова, Александра Урсуляк, Виктор Вержбицкий… - Знаю, что и вы приложили руку к озвучке аудиокниги. Как это было?Две главы прочитали мы с Викторией. Современные, про Иркутск, Красноярск, Магадан и Якутию. Опыт прекрасный, я раньше работала на радио и телевидении, поэтому для меня это было небольшое возвращение к истокам.
Было смешно, когда меня родная мама не узнала. Я включала главы, и она комментировала: «Это понятно, Чонишвили, а это голос Пирса Броснана (Прим. Юлии: не все знают, что это Владимир Антоник, прекрасный актёр дубляжа.), это Ирина Апексимова». А дальше я включаю себя, и она говорит: «Очень знакомый голос». В общем, думала-думала и не угадала. Я говорю: «Да, знакомый голос, напротив тебя сидит». А ребёнок сразу узнал: «Мама, это же ты читаешь, да?»
Сейчас мы хотим эти подкасты соединить с музыкой и вновь планируем проект с «Мелодионом». - Можете подробнее рассказать об этом?Это будет совершенно новый продукт — авторский музыкальный спектакль на основе нашей аудиокниги про золото. Мы общались с Наташей Тупиковой‑Мороз и договорились, что она напишет сценарий, выберет самые яркие факты из книги о золоте, дальше подберёт под это видеоряд и музыкальные произведения. Планируем сделать концерт в сентябре 2026 года в Иркутске перед марафоном лекций «Нансен».
- Смотрю, у вас много проектов именно про искусство.Людям сложно слушать просто про золото или золотодобычу, их нужно заинтересовать. Нужно давать что-то такое, чем им захочется поделиться.
Вот мы начинали говорить про содержание золота в руде. Помню, выхожу получать награду на одном из конкурсов АКМР, и Екатерина Коляда, вручая мне приз, говорит: «Юль, залу расскажи про содержание золота в руде, про слона и муху». Потому что её это зацепило, и ей захотелось этим поделиться.
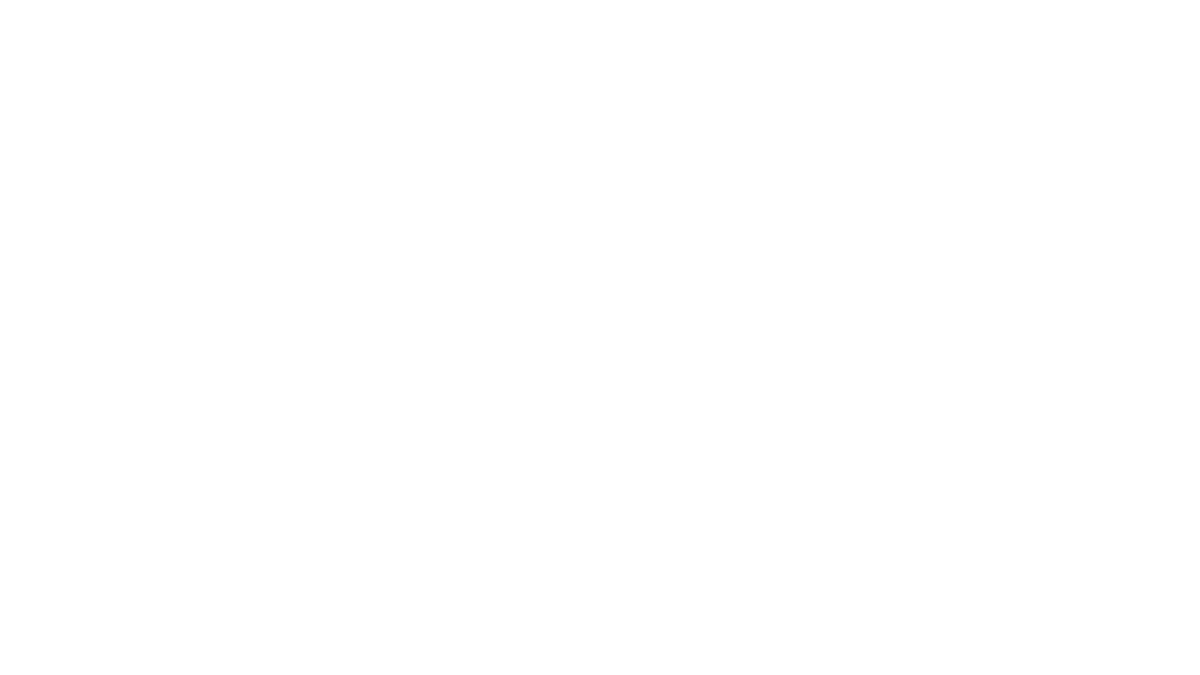
- Это не только про искусство, а про запрос людей. Например, зачем мы привозили писателей в Магадан и Красноярск? Нам хотелось, чтобы они прочувствовали эту атмосферу и описали её в рассказах, которые откликнутся людям.
У нас очень читающая страна, и Сибирь и Дальний Восток входят в список самых читающих регионов. Люди на вахте любят живые книги, им этого не хватает. После того как мы привезли писателей на вахту в Магадане, я получила сообщение от девушки. Она узнала о приезде писательницы Веры Богдановой и расстроилась, что мы не проводили автограф‑сессию. Так мы поняли, что есть запрос на встречи с писателями. В 2026 году планируем делать первый книжный фестиваль в Магадане «Золотые слова».
Есть ещё один проект, «Нансен» — марафон просветительских лекций, который назван в честь норвежского исследователя и путешественника Фритьофа Нансена. Мы привозим спикеров, вообще не связанных с золотодобычей: астрофизиков, искусствоведов, антропологов, космонавтов. Потому что людям это нужно: был запрос после ковида, когда все устали от онлайна и захотели офлайн‑лекций. - Понятно, для чего вы привозите писателей, геологов, которые потом рассказывают об этом в своих блогах и работах. Но на лекции вы привозите людей, не связанных с золотом, которые вряд ли популяризируют золотодобычу. Для чего это?Потому что есть такой запрос, это имиджевая история. Вот, например, вывозят крупный концерт в регион и на афише публикуют логотип условного банка, который финансирует мероприятие. Повышает ли это лояльность банку? Не знаю, я не побегу сразу класть деньги в тот банк, который увидела на афише любимого исполнителя. Но… зачем‑то же банки это делают.
У нас есть запрос от людей, и мы следуем ему. Тот самый марафон научно‑популярных лекций «Нансен» мы сделали с крупнейшим медиахолдингом Красноярска «Прима». Обсудили программу, лекторов. Первый раз запустили в 2023 году в Красноярске. Получили хороший фидбэк и поняли, что это востребовано.
В прошлом сентябре привезли этот же проект в Магадан. И люди пришли на лекции. Мы привезли Юлию Петрову, директора Музея Русского импрессионизма. И представляете, жители Магадана были в этом музее в Москве и задавали ей вопросы на лекции. То есть они, приезжая из Магадана, пошли не только в классический треугольник: Красная площадь, Пушкинский музей, ВДНХ, — а дошли до небольшого, но очень хорошего частного Музея русского импрессионизма, а потом уже на лекцию в родном городе.
У нас ещё есть большой проект «Золото рядом», который рассказывает про отрасль, объекты золотодобычи и работает как профориентация.
Потому что дети не выберут профессию, о которой ничего не знают. Почему дети хотят быть блогерами? Потому что это на виду. Почему дети раньше хотели быть экономистами и юристами? Потому что они видели всё это. Как в советское время все хотели быть космонавтами, танцевать в балете и быть учителями.
Для того чтобы популяризировать промышленные, инженерные профессии, нужно детям об этом рассказывать. Мы как-то общались с директором Музея геологии Центральной Сибири в Красноярске Юлией Мансуровой. И она сказала: «Не надо мне рассказывать, какое плохое молодое поколение! У меня Школа юного геолога. Я вижу, какие все дети заряженные и как они уникально пользуются новыми технологиями, что находят в телефоне, до какой информации докапываются».
Просто их реально надо заинтересовать, чтобы они сидели не в ТикТоке, а на каких‑то полезных ресурсах. - Почему тогда не взять блогеров с более широкой аудиторией, разве так не выше шансы популяризировать профессию среди школьников?Я не соглашусь абсолютно. Сейчас пошла история не про блогеров‑миллионников, а про микроинфлюенсеров. К ним больше доверия. Девочка, у которой немного подписчиков, но они очень лояльны, будет для нас ценнее.
У блогеров-миллионников реклама, это всегда платная история. Он говорит: «Я кормлю своих детей кашей такой‑то». Завтра он кормит кашей другой, а послезавтра он поит их соком. А ещё потом он надел на него бейсболку какую-нибудь. Размывается фокус внимания.
Да, может быть, охват у крупных блогеров выше. Но от того, что блогер‑миллионник приедет на наш ГОК, его там все узнают и он один раз напишет об этом, дети не пойдут поступать на инженерные профессии.
Мы делаем узконаправленные, целевые проекты и видим хорошие цифры. Например, у нашего подкаста «Женское это дело» только в прошлом году было 688 тысяч уникальных слушателей. Для такого специфического подкаста это очень хорошо. И его точно слушают те, кому интересна наша сфера. - Получается, профессиональные блогеры‑путешественники, геологи лучше доносят ценности компании?Да, опять же, мы сделали историю с профессиональными путешественниками. Не блогерами. За плечами у всех геофак МГУ, и мы запустили с ними автоэкспедицию «Золото открытий», в которой охватили все наши четыре региона присутствия.
Ребята проехали на своих машинах от Читы до Магадана в первый год, а во второй — через Красноярск и Иркутск. На выходе мы получили девять увлекательных роликов в первом сезоне и восемь во втором. Они хорошо поднимаются в органике ВКонтакте, мы их используем при работе с молодёжью.
Там есть очень хороший эпизод «У каждого своё золото». Ребята рассказывают о собственных эмоциях: кому-то запомнилось что-то из золотодобычи, кому‑то — золотые закаты на реке. Всё очень разное, но очень живое, откровенное, абсолютно незаказное. - Вы помните, как в первый раз сами приехали на карьер? Какие эмоции у вас это вызывало?Я пришла в «Полюс» в марте 2021‑го. Чтобы кому‑то рассказывать о золотодобыче, мне нужно было самой в этом разобраться. Через год я полетела в Магадан, оттуда на Наталкинский ГОК.
Насколько это далеко: сначала летишь в Магадан, потом семь часов едешь до предприятия. И у тебя ещё разница во времени. Ты думаешь, что поспишь, но нет, потому что дорога идёт по грейдеру и тебя трясёт.
И в то же время ты не можешь оторваться от природы за окном. Это сложно передать и представить, но пейзаж всё время меняется. Дальше ты очень удивляешься людям, которые встречают на ГОКе. Они рассказывают о своей работе с большой отдачей и интересом. И тут ты понимаешь, какая это махина и как всё внутри друг с другом связано.
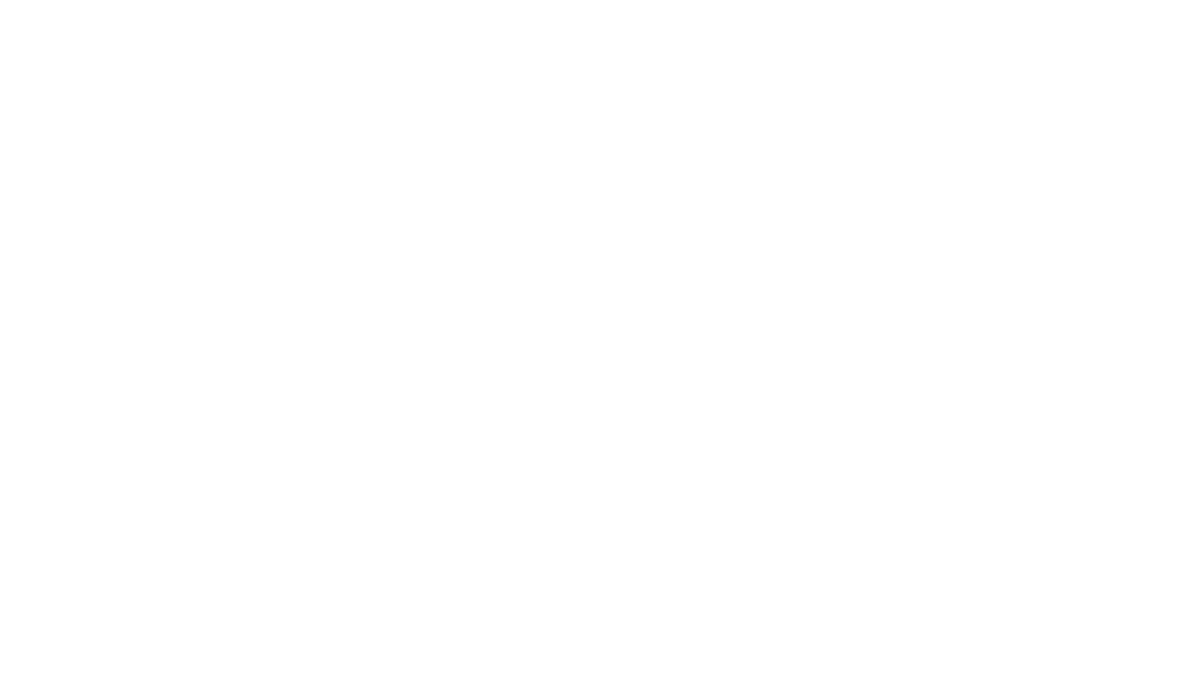
- Я люблю летать в регионы, потому что ты погружаешься в эту реальность. Из Москвы всё смотрится по‑другому. Раньше нам было легче путешествовать за границу: из Москвы в Прагу или Мюнхен, вопрос нескольких часов.
А сейчас я всем рассказываю: «Ребята, почему вам кажется, что Красноярск так далеко»? Четыре часа на самолёте, как до Сочи. Это потрясающий город с шикарными театрами, отличной филармонией, красивыми зданиями в стиле модерн. Кто хочет природу — пожалуйста, нацпарк Красноярские столбы. Я считаю, что надо популяризировать наши регионы.
О пиарщиках
- Вы упоминали, что в «Полюсе» востребовано много разных специалистов, в том числе пиарщики. Каким должен быть пиарщик, чтобы попасть в вашу команду?Нам повезло, у нас очень стабильный пиар‑департамент в Москве и в регионах. Редко кто‑то уходит. Бывает, если нам дают дополнительное место, мы стараемся привезти в Москву кого‑то из регионов.
Команды небольшие, поэтому всегда очень внимательно подходим к подбору людей. Чтобы это был полноценный игрок и чтобы он вписывался в команду. Очень важно, чтобы человек был заинтересован, а не просто видел в «Полюсе» крупную компанию, имидж. - Важно ли вам образование пиарщика?У меня первое образование — Московский иняз (Прим. ред.: сейчас Московский государственный лингвистический университет.), потом был телевизионный институт (Прим. ред.: сейчас Академия медиаиндустрии.), который мне дал очень много, и дальше я прошла профпереподготовку — маркетинговые коммуникации в МГУ.
Только в 30 лет я пошла работать в офис, а до этого делала крупные пиар‑проекты вне корпоративной повестки. На выступлениях перед студентами я часто задаю вопрос: «Зачем вы пошли на пиар?» Кто‑то чётко говорит, чего хочет, кто‑то вообще не понимает. Хорошо бы те, кто шёл учиться на пиар, действительно понимали, кем они себя видят на выходе.
Они, конечно, хотят сразу какой‑то руководящей должности. Но все разные: кто-то шикарный копирайтер, кто‑то потрясающий ивентщик, кто‑то отлично работает в соцсетях. Надо понимать, к чему у тебя лежит душа. Но очень важно в пиаре иметь широкую базу контактов. Важно налаживать и поддерживать связи буквально со студенческой скамьи. - Что самое важное в работе пиарщика?Нетворкинг, ведь люди идут к людям. У меня много примеров проектов, которые начались с одного телефонного звонка. Например, у меня был отпуск, круиз по Волге. И во время него раздаётся телефонный звонок от знакомого: «Слушай, хорошие люди просят твой номер. Можно дать?» Я говорю: «Хорошим людям всегда можно».
Мне звонит девушка Настя Скорондаева, которая устраивает литературный конкурс «Класс!». Она попросила помочь привезти детей из наших регионов присутствия. Мы помогли, а потом я с ней обсудила свою идею: «Хочется привезти на наши активы писателей. Давай сделаем?» И вот так родился проект с «Редакцией Елены Шубиной». - Вы часто видите студентов пиарщиков, выступаете перед ними. А какие они, пиарщики нового поколения?Мне больше нравится читать мастер‑классы в регионах, чем в Москве. В Москве публика более избалованная, к ним часто привозят спикеров.
Помню, когда приехала на выступление в Плехановский университет, там было несколько спикеров. Я вижу, что все студенты сидят в телефонах и им всё равно, кто там к ним вышел, что говорит. Но под мой бодрый шёпот они уснуть точно не могут.
Обычно я задаю аудитории вопросы — так ребята хотя бы поднимают глаза и смотрят на того, кто их спрашивает. А дальше, глядишь, оторвались от телефонов, проснулись и что-то уже начали слушать. Одни студенты давали своему преподавателю обратную связь по моему выступлению — в начале лекции я всегда представляюсь, но, естественно, никто из них не слышал. Поэтому в одной из записей было сказано: «Нам понравилась эта женщина в сиреневом».
Я специально приезжаю в ярком: зелёном, красном. Женщина в сиреневом? Отлично, а ещё я могу быть женщиной в красном или синем, лишь бы вы от этой женщины запомнили что-то полезное.
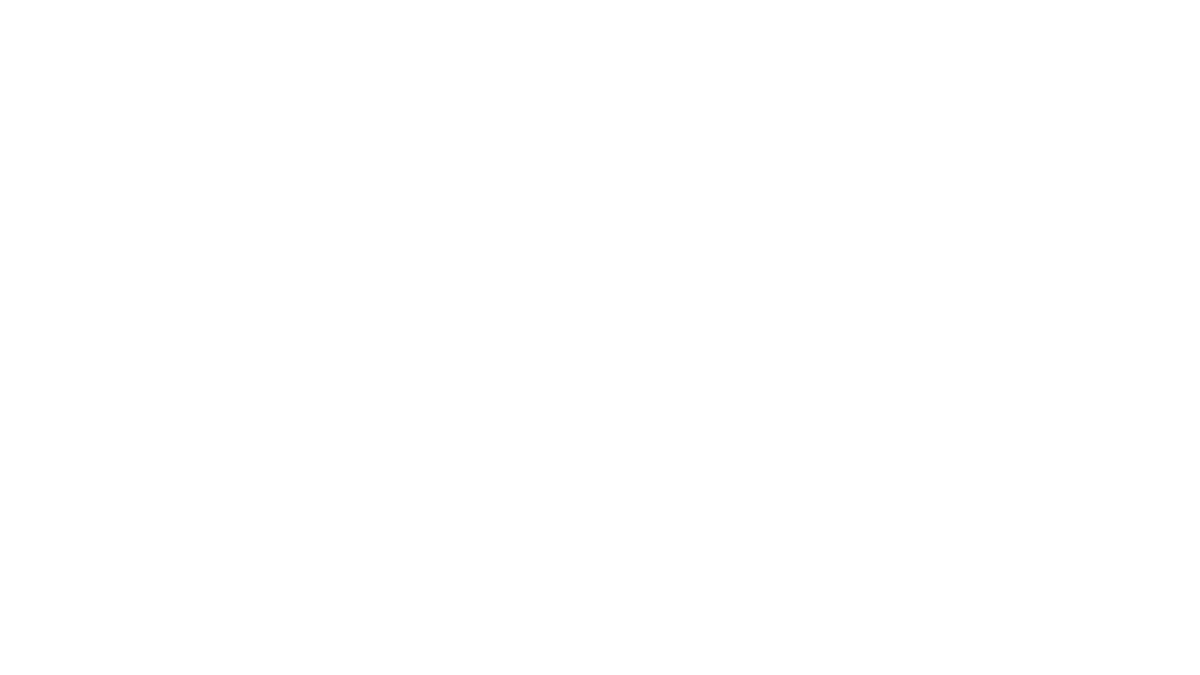
- В этом плане мне очень нравится фестиваль ЛЭТИ в Санкт‑Петербурге: мы давали студентам на решение кейс от «Полюса». И там участвовали очень хорошие, заряженные студенты. У них было 40 минут прочитать кейс, а потом задать вопросы. Ребята выжали меня как лимон. На меня смотрела полная аудитория заинтересованных глаз.
В Хабаровске мы с Викторией читали лекцию в ТОГУ в рамках проекта «Серебряный лучник — Дальний Восток». Мало московских пиарщиков, которые прилетят в Хабаровск с выступлениями, поэтому дальневосточная аудитория это ценит и старается впитывать информацию по максимуму. - В целом на Дальнем Востоке, не знаю насчёт Сибири, само направление пиара не развито. Мало кто из компаний понимает, чем занимаются пиарщики, и очень часто их смешивают с маркетингом, эсэмэмэмом.Да, но при этом кейсы, которые были представлены на фестивале «Серебряный лучник — Дальний Восток», очень сильные. Мне понравилось, а я вхожу в жюри многих премий, мне есть, с чем сравнивать.
Судейство хоть и занимает большое количество времени, зато развивает насмотренность. Ты видишь, что делает рынок. Часто судишь кейсы компаний совершенно не из твоего сектора, но они могут натолкнуть тебя на креативную идею. - В интервью Журнала с организатором премии LOUD Ксенией Тиханкиной была фраза, что пиар в регионах больше направлен на решение проблем общества и бизнеса, чем федеральный. Как вы считаете, это справедливо или нет?Наверное да. Я смотрю на крупный бизнес: что делает «Сибур», «Северсталь», «Норникель». Сейчас очень много проектов, направленных на развитие эйчар‑бренда, на привлечение и удержание сотрудников.
Мы как крупная промышленная компания тоже сосредоточены на наших регионах присутствия и делаем социальные проекты. - Про удержание сотрудников: сейчас часто получается, что специалисты получают известность и уходят. Стоит ли развивать публичность сотрудников и безопасно ли это для эйчар‑бренда?Если человека захотят схантить, они его схантят, публичный он или нет. Бывает, приходит человек в компанию на очень хорошую должность. Ты начинаешь смотреть цифровой след, а его практически нет: он не давал особо интервью, не пиарился, но при этом рынок его знает. Это как раз пример, когда широко известен в узких кругах.
У нас иногда бывает, что выступают очень востребованные специалисты на конференциях. Мы не называем их фамилии, потому что действительно есть риск, что схантят. Но в большинстве случаев как раз такие сотрудники очень лояльны компании. Особенно если они сделали серьёзную карьеру внутри. Им уже нет смысла переходить куда-то.
Бывают и случаи, когда человеку надо расти или когда нужно выйти, чтобы вернуться обратно на другую должность. Такие примеры тоже есть. Например, когда человек поработал, вышел куда‑то ещё, у него расширилась экспертиза, поменялся функционал. И он вернулся уже на другую топовую позицию.
Есть люди, которые считают, что они проработали в компании три‑четыре года и после этого им обязательно надо куда‑то переходить. Я в девелопменте проработала 11 лет и, может быть, не ушла бы никуда, если бы там не поменялось всё руководство.
В один день у меня появился новый президент и семь новых вице‑президентов. Стала абсолютно другая компания. И меня с трёхмесячным ребёнком попросили написать заявление. Конечно, всё, что ни делается, всё к лучшему. Я посидела до полутора лет с ребёнком, потом вышла на год в фарму, это был тоже очень интересный опыт. И потом пришла в «Полюс».
При этом я пятый год работаю здесь, и мне комфортно. Периодически я получаю предложения, но говорю: «Я не готова это рассматривать. Я могу вам кого-то посоветовать, если вы находитесь в поиске». - Как считаете, нужно ли пиарщику развивать публичность?Очень по‑разному. Например, мне многие говорят: слушай, а что ты не ведёшь свой телеграм‑канал, у тебя столько историй, столько всего. Но на это надо время. Я в свой ВК-то только периодически очень коротко пишу.
Но я с удовольствием читаю Айту Лузгину, которая пишет: я там-там-там-там. А я не успеваю писать. Может, конечно, и поколение другое. Но свой телеграм‑канал точно нет, потому что его надо развивать.
Публичность — это когда тебе хочется твоей экспертизой с кем-то поделиться, послушать кого-то интересного. Практически все пиарщики, так как мы даём комментарии, в той или иной степени публичны. Насколько надо это безумно наращивать, не знаю.
Каждый выбирает по себе. Есть пиарщики‑интроверты. Такое тоже бывает. - Разве пиарщик-интроверт не противоречие?Нет, человек может выступать на публике, и при этом в другой жизни быть достаточно закрытым. Например, даёт комментарии публично от лица компании, но не выступает на конференциях. Не вкладывается в проекты со студентами. И ему достаточно, он себя комфортно чувствует.
Это как с артистами, всё на продажу: кто-то рассказывает про свою личную жизнь, котиков, собачек, жён, мужей, детей. А кто‑то чётко отгораживается. Мне кажется, с пиарщиками примерно так же. - А что нельзя прощать пиар‑специалисту как профессионалу? Какие‑то качества или ошибки?Когда ты не разбираешься в той сфере, которую пиаришь, или когда тебе кажется, что ты всё знаешь, — это дорога в никуда. Когда ты не понимаешь, где грань допустимого, как хайп ради хайпа: просто потому что вот клёвый инфоповод, мы сейчас соберём охваты… А дальше что после этих охватов будет?
Про личное
- Вы часто бываете в командировках — сложно ли совмещать работу и личное при таком графике?Совмещать сложно, но я всегда говорю: «Чтобы был счастливый ребёнок, должна быть счастливая, реализованная мать». Если бы этого не было, я бы дома залюбила всех до смерти.
- Сын понимает, чем вы занимаетесь?Ребёнку интересно. Сейчас ему семь лет, он идёт в первый класс. Я и бабушка лет с четырёх показываем ему, где мама выступает: «Вот давай посмотрим, куда мама улетела, что мама там делает».
— Что мама рассказывала?
— Мама рассказывала про золото.
Мама-пиарщик — это пока абстрактно, не очень понятно, а вот «Я часто вижу маму с микрофоном, она выступает и рассказывает всем про золото» уже хороший ответ. - А остальные члены семьи?Мне кажется, что муж бы не выдержал такого графика, поэтому его нет))). Мама уже давно понимает и принимает. Когда я ещё работала в девелопменте, она насмотрелась на мою работу. Потом она со мной пару раз выехала на мероприятия. После этого вопросы вроде «Почему всё время телефон в руках?» вообще отпали.
- Как сын относится к вашей сфере работы?Он добывает золото на даче. У него там, как он говорит, есть замшелое место, он там копает золото. А ещё он обожает карты. Соседке часто говорит: «Ты что, даже не знаешь, где Магадан? Там, где Охотское море. Охотское море богато морепродуктами. Вот у меня мама сейчас туда полетела». В семь лет он знает, где Магадан, Красноярск, Иркутск. Любимая игрушка — глобус, настольная книга — атлас. Знает, что в Африке три Гвинеи и где в России полюс холода. Я считаю, это уже большая победа.
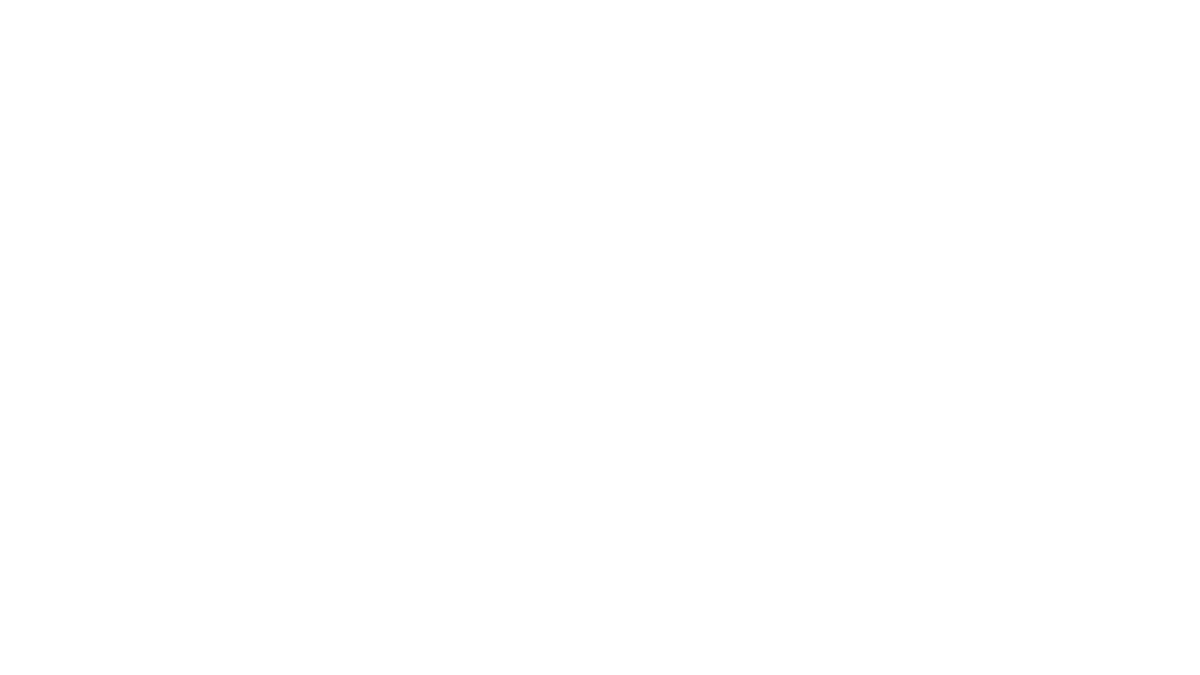
- Он всё время спрашивает: «Когда я с тобой полечу?» Я отвечаю: «Ну, будет лет десять — я тебя в Магадан с собой возьму».
Иногда мне говорят: «А ты готова была бы своего ребёнка отправить работать на ГОК?» Слушайте, ему семь. Я точно не исключаю возможности, что он может учиться потом не в Москве, потому что в регионах очень хорошие вузы. Тот же Горный университет в Санкт‑Петербурге, Сибирский федеральный университет в Красноярске. А почему нет? Прекрасные технические специальности, тем более для мальчика. Но надо посмотреть, что ему будет интересно. - А если станет пиарщиком? Допускаете такой вариант?Мне кажется, нет. Это не мужская профессия всё‑таки. Мне кажется, у него есть математические задатки. Я чистой воды гуманитарий, а он нет. При этом сын с удовольствием ещё занимается музыкой и ходит со мной на балет и слушать оперу.
Обожает Петербург, где он родился случайно раньше времени. Он говорит: «Я из Санкт‑Петербурга, это город моей жизни». Все идёт от семьи. Я люблю Питер, привозила его туда, и он его тоже полюбил.
Ему абсолютно не зашёл музей Фаберже. Зато он неплохо ориентируется в городе: знает, где Мойка, Фонтанка, Невский, Исаакиевский собор, Казанский, Дом книги. Мне кажется, это шикарно. - Санкт-Петербург — ваш любимый город?Да. Я его люблю больше, чем Москву, хотя я коренная москвичка.
Ещё люблю Кисловодск. В него я впервые попала в 2015 или 2016 году. Мне моя врач посоветовала просто съездить подышать в санаторий. Для меня это тогда было странно: дышать, ходить по парку. Но мне так понравилось! Там такой прекрасный воздух. Я туда стала ездить почти каждый год и вижу, как город меняется на глазах.
Приезжаешь на пять дней и полноценно отдыхаешь, переключаешься. Мне очень нравится то состояние, которое испытываю в Кисловодске. - Бывают моменты, когда бесит работа в пиаре?Мне кажется, за столько лет я уже привыкла. Помню, у меня был самый шикарный отпуск в жизни. В 2013 году мы улетели в Мьянму, и там ни один российский сотовый оператор не подписал контракт. Это были две недели отдыха. Ничего. Ни одного звонка или письма.
Зато, когда я вернулась, весь мой отдел стоял на ушах. Я семь часов не могла выйти из кабинета. Они по кругу ко мне заходили с вопросами, занимая очередь друг за другом в конце. Это было весело.
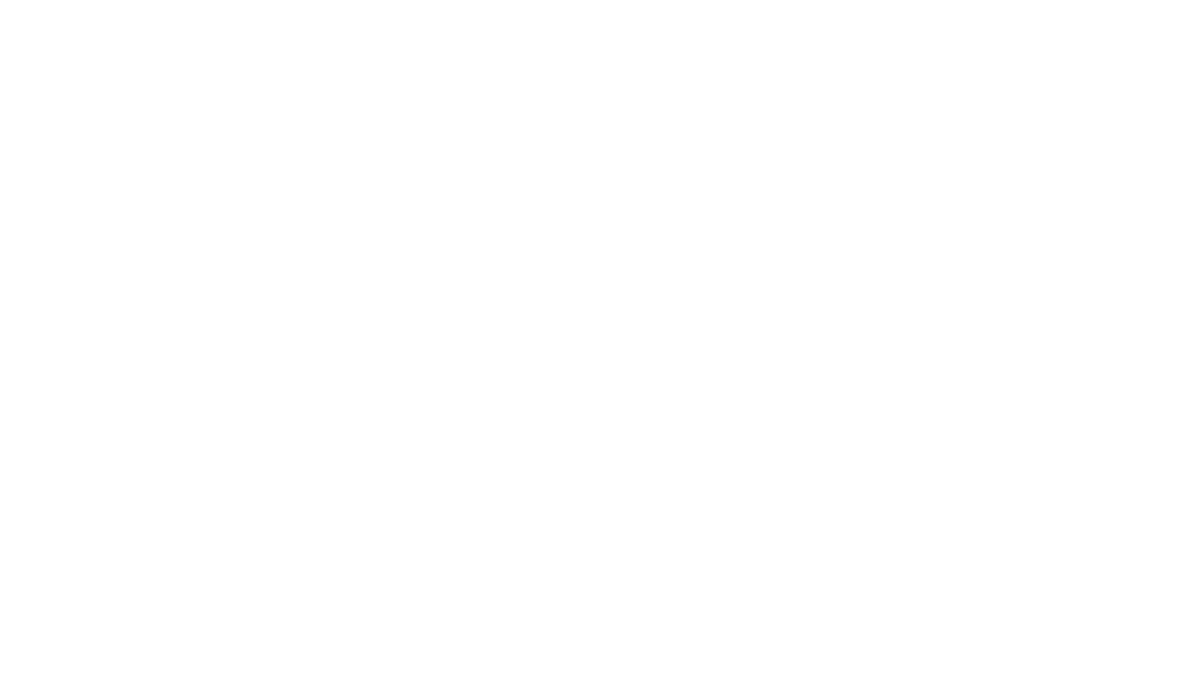
- Бывает, в отпуске шеф забывает, что ты отдыхаешь. Я так ездила в Андорру. Звонит мне шеф и спрашивает, почему не брала трубку. А я в ответ: «Простите, пожалуйста, я на горных лыжах здесь катаюсь, с горы ехала». И он: «Ой, да, ты же в отпуске».
К этому привыкаешь. Зато нет жёсткой рутины, всё время всё разное. Правда, иногда приезжаешь на работу, планируешь заниматься одним, а тебе вдруг падает совсем другое, и план меняется. Надо просто принять, что оно так есть. - Можете дать совет начинающим пиарщикам, как стать руководителем в пиаре?А не обязательно становиться руководителем. Надо понимать, что для тебя комфортнее. Иногда ты развиваешься в горизонтали, иногда — в вертикали.
Мне кажется, пиарщик должен понимать, как работают все процессы. На каком‑то этапе ты уже можешь не делать всё сам руками, но ты должен понимать, как и что работает. Ты должен знать, какие появляются новые технологии, что делает рынок (не обязательно твой), какой сейчас уровень проектов. Поэтому очень важно следить за всеми фестивалями, конкурсами, смотреть, кто что делает.
На нашем фестивале «Территория. Иркутск» перед молодыми актёрами, режиссёрами, сценаристами выступала Юлия Пересильд. Она проводила мастер-класс «Гигиена артиста» и говорила очень важные и правильные вещи о том, что должна быть насмотренность.
Юлия рассказывала это применительно к артистам. Ты должен понимать, чем одна актёрская школа отличается от другой, какие появляются новые режиссёры, какие новые технологии в кино, как ты будешь взаимодействовать с этим. В пиаре примерно то же самое. Ты должен всё время чем-то интересоваться.
У пиарщиков вообще обычно очень широкий кругозор. Мы всё по верхам, но знаем очень много. В силу того, что «Полюс» делает много социальных проектов, связанных с наукой, искусством, образованием, у меня тоже расширяется кругозор. Видите, я пошла на концерт и зацепила там квартет «Мелодион».
Мне кажется, надо всё время не стоять на месте. Постоянно развиваться. Ненавижу фразу, за которую прям молодняк ругаю: «Это не моя зона ответственности».
Как узкие шоры на глазах: это моё, а остальное мне неинтересно. В пиаре так точно не работает. Нельзя от каких‑то задач отказываться. Ты можешь не позволять себе сесть на шею и всё нести на себе, но ты должен интересоваться, что делают другие. Чтобы понимать, твоё / не твоё, интересно/неинтересно. «Это не моя зона ответственности, я не буду это делать», — так не летает. - Что для вас золото?Золотые контакты. Пиаром я начала заниматься, когда меня познакомили с чешским фотографом Ядраном Шетликом. Ядран приехал в Россию делать фотопроект «Лица России». Он снимал известных людей, которых знает вся страна: Безрукова, Миронова, Кончаловского, Михалкова, Церетели, Гурченко, Быстрицкую, Цискаридзе. И я находила контакты этих людей, организовывала съёмки, общалась со СМИ, со спонсорами — такой человек‑оркестр.
Было много потрясающих историй. О том, как я познакомилась с Олегом Павловичем Табаковым во время спектакля и пригласила его на съёмку и как он помог нам с контактами Безрукова и Миронова. Как мы, снимая Быстрицкую, заговорили про животных, и она посетовала, что рядом нет её собаки Фифочки. Водитель привёз её пекинеса, и мы фотографировали их вместе, а Фифочка позировала едва ли не лучше самой Быстрицкой. Была потрясающая чёрно-белая фотосессия с Людмилой Марковной Гурченко.
И в то время у меня была золотого цвета записная книжечка, в которой хранились контакты всех этих людей. Галины Волчек, которая во время съёмки говорила: «Можно я буду курить?» Церетели, который ко всем обращался «Дети» и никогда не прекращал рисовать. Поэтому золото — это мои золотые контакты. Как с них всё началось, так и продолжается.
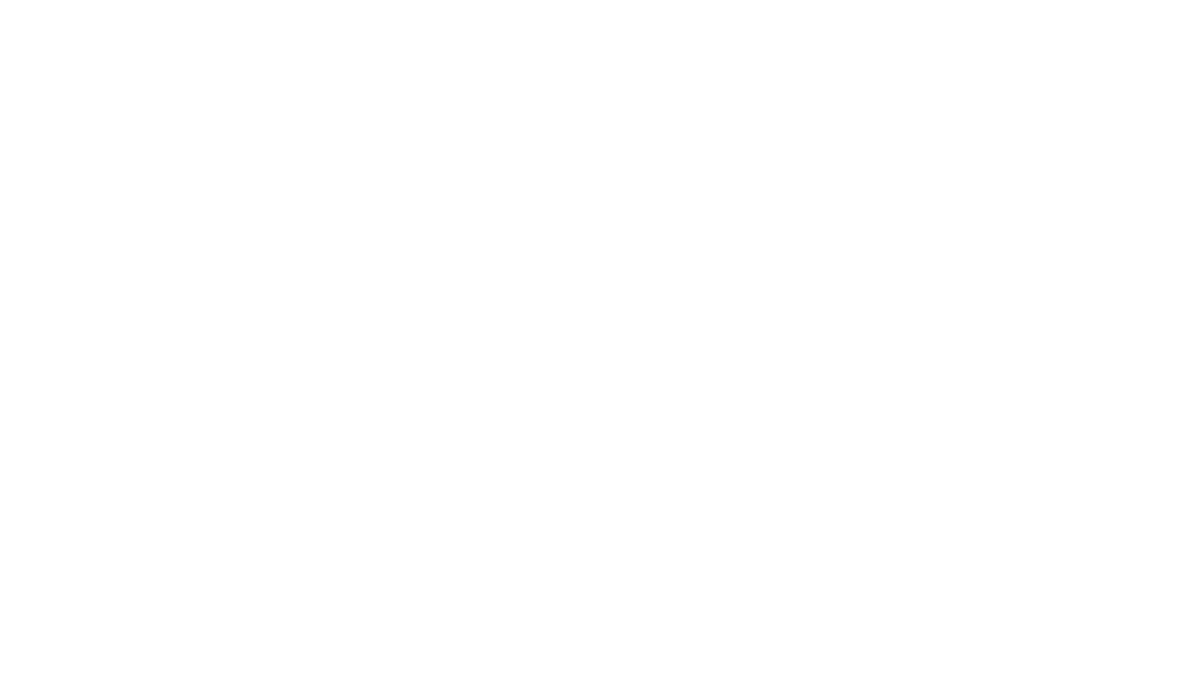
- СпрашивалаКсения Новикова
автор, главред Журнала Пиархаба - ОтвечалаЮлия Деева
заместитель директора департамента по связям с общественностью в «Полюсе»
Вам понравится
Кукуха

Дмитрий Михайлов: о пиаре в телекоме, проблемах образования и работе с поколением зумеров
Кукуха

Ольга Дементьева: как работодатели видят пиарщиков, почему универсальный работник — это не всегда хорошо и куда мигрируют пиарщики
Пахота

Нина Орешкина. Как устроен день пиар-директора «Циана»: кофе, велоспорт и вера в человечность